«Бумага» продолжает рубрику, посвященную городским окраинам, в которой автор паблика «
Спальные районы страны Oz» Игорь Антоновский рассказывает о том, как живется в местах, далеких от Думской, Невского и Рубинштейна.
Самоубийство Коли с черными руками «зиловского рабочего», залитые солнцем полосы КАДа и люди, вынужденные срастись с металлом. В новой колонке — проспект Культуры с бесконечными вереницами машин, покидающих стонущий от жары город.

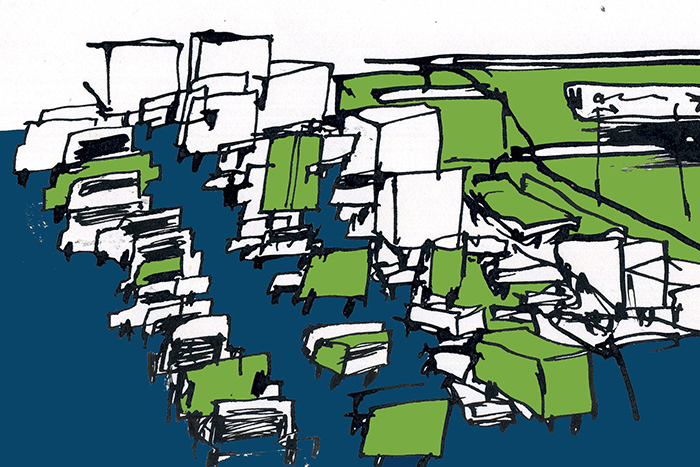 Иллюстрация: Катерина Касьянова / «Бумага»
Иллюстрация: Катерина Касьянова / «Бумага»
Если есть город — с его плотностью, теснотой, городской жизнью, полной суеты и проблем, — должен быть и выход из него. Проспект Культуры идеально подходит для места, из которого стоит покинуть город прекрасным летним днем. В зелени аллей утопают советские буквы «библиотек» и «строительных материалов» внизу блочных домов; сами дома становятся все реже и, кажется, медленно погружаются в областную пустошь. Есть в их ритме что-то завершающее.
Его звали Коля, и он жил во дворах за моей школой. Я с трудом вспоминаю его лицо, столько лет прошло, — но хорошо помню руки. Мы компанией проходили мимо, и он неизменно протягивал для рукопожатия черную ладонь. Это были руки «зиловского рабочего» — в масле, мазуте, что там еще остается на руках, когда роешься целыми днями в двигателе «копейки». Этими руками он и надел веревку себе на шею, другой конец привязал к парапету виадука, а потом сел в свой автомобиль и нажал на газ. Голову оторвало.
Произошедшее экзотическое и чудовищное самоубийство вызвало резонанс в интернете и оставило отпечаток на месте, где было совершено. Виадук на проспекте Культуры, который ближе всего вел к КАДу, а с открытием следующим летом дамбы — и на дачу, к южному берегу залива, теперь неизменно ассоциировался с той страшной осенней ночью, когда Коля оторвал себе голову.
Я неизбежно вспоминал об этом следующим летом, выезжая с проспекта Культуры из пыльного, стонущего от жары города. Так черная, депрессивная, суицидальная осень встречалась с летним простором, ощущением предстоящей свободы, романтики взлетной полосы КАДа в дорожных петлях и тлеющих от солнца пустырях с обеих сторон. Иррациональность действий самоубийцы, липкий кошмар самого способа, черные, наконец, руки, в мазуте и с белой тряпочкой, протянутая для пожатия ладонь — все это на миг вставало перед глазами и портило настроение.
Города растут вширь, делая расстояния между точками перемещения невозможными для человека из плоти и крови. Остается только снявши голову стать «газелью», мчащейся в темную ночь в сторону КАДа. Надевай веревку на голову и жми на газ.
Причиной самоубийства Коли называли проблемы с гаражом, который собирались сносить. Абсурдно, конечно, но я готов в это поверить: у меня был его портрет, сложенный в том числе и из разговоров людей, знавших его ближе, — портрет человека, повернутого на машинах и всем, что было с ними связано. Потому я и не знал его, кстати, близко: пока мы подростками пили в садике рядом с его домом, он копался в своих железяках — «запорожцах», «копейках», «шестерках».
Город заставляет человека срастись с металлом, иначе перемещение невозможно. Жизнь тут предполагает или подземные телепортации, или превращение в кентавра с железным низом, которого в любой момент может размозжить другой такой же, довести до самоубийства проблема с гаражом. Даже выезд из города невозможен без этой мутации — не уходить же отсюда пешком.
История Коли казалась мне сюжетом для Кронненберга: не в силах окончательно срастись с автомобилем, человек решается на отчаянный шаг — исторгнуть из себя человеческую суть, вырвать голову, умереть в движении. И Баллард, написавший роман «Автокатастрофа», и Кронненберг, экранизировавший его, предсказывали подобную девиацию — их герои получают удовольствия от «срастания» с горячим металлом.
За беспокойством о погружении в виртуальную реальность мы окончательно утратили страх перед собственной зависимостью от транспорта, скоростей, жизнью в железной коробке. Зависимостью физиологической, мутационной, растворившей нас в металле. Города растут вширь, делая расстояния между точками перемещения невозможными для человека из плоти и крови. Остается только снявши голову стать «газелью», мчащейся в темную ночь в сторону КАДа. Надевай веревку на голову и жми на газ.

Чтобы отбросить мысли о Коле, связанные с проспектом Культуры, я бродил тут целыми днями тем летом. Сидел в аллеях, думал о городском лете, о тиши пустошей по ту сторону КАДа, о том, что жизнь все же прекрасна и удивительна, если никуда не надо спеша ехать. В пятницу, перед выходными, в которые я не мог отлучиться из города, смотрел на пробку из машин: люди, вросшие в сидения, напряженно глядели на дорогу перед собой, из открытых окон гремела какофония радиопередач и музыки, задние сиденья были забиты какими-то летними вещами — пакетами из гипермаркетов, пенками-лежаками, шезлонгами. Стояли капитально, казалось, сам город не отпускает, не дает уехать, вырваться из своего чрева.
Но потом что-то произошло: может, открыли где-то полосу, занятую аварией, а может, само собой рассосалось — и машины поехали легко и просто, так быстро, что уже было не разглядеть ни напряженных лиц, ни шезлонгов, ни музыки не расслышать. Проехала «газель», возможно, такая же, как та, в которой Коля оторвал себе голову. И что-то переключилось в голове, и лето открыло себя — и я зашагал, бодрый, под зловещий виадук. Коля, прости. Лето победило.
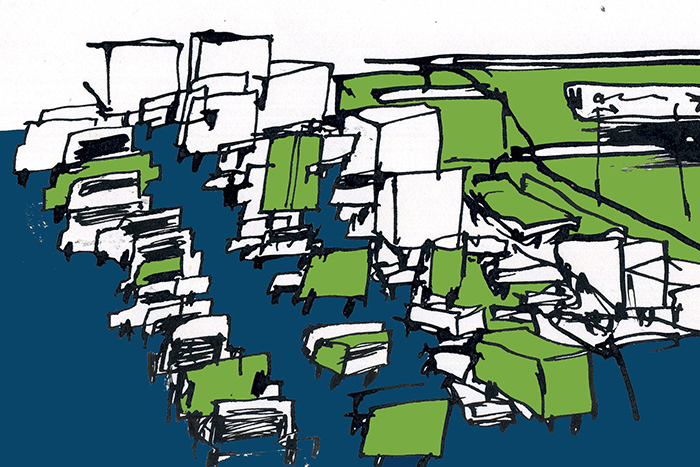 Иллюстрация: Катерина Касьянова / «Бумага»
Иллюстрация: Катерина Касьянова / «Бумага» Чтобы отбросить мысли о Коле, связанные с проспектом Культуры, я бродил тут целыми днями тем летом. Сидел в аллеях, думал о городском лете, о тиши пустошей по ту сторону КАДа, о том, что жизнь все же прекрасна и удивительна, если никуда не надо спеша ехать. В пятницу, перед выходными, в которые я не мог отлучиться из города, смотрел на пробку из машин: люди, вросшие в сидения, напряженно глядели на дорогу перед собой, из открытых окон гремела какофония радиопередач и музыки, задние сиденья были забиты какими-то летними вещами — пакетами из гипермаркетов, пенками-лежаками, шезлонгами. Стояли капитально, казалось, сам город не отпускает, не дает уехать, вырваться из своего чрева.
Но потом что-то произошло: может, открыли где-то полосу, занятую аварией, а может, само собой рассосалось — и машины поехали легко и просто, так быстро, что уже было не разглядеть ни напряженных лиц, ни шезлонгов, ни музыки не расслышать. Проехала «газель», возможно, такая же, как та, в которой Коля оторвал себе голову. И что-то переключилось в голове, и лето открыло себя — и я зашагал, бодрый, под зловещий виадук. Коля, прости. Лето победило.
Чтобы отбросить мысли о Коле, связанные с проспектом Культуры, я бродил тут целыми днями тем летом. Сидел в аллеях, думал о городском лете, о тиши пустошей по ту сторону КАДа, о том, что жизнь все же прекрасна и удивительна, если никуда не надо спеша ехать. В пятницу, перед выходными, в которые я не мог отлучиться из города, смотрел на пробку из машин: люди, вросшие в сидения, напряженно глядели на дорогу перед собой, из открытых окон гремела какофония радиопередач и музыки, задние сиденья были забиты какими-то летними вещами — пакетами из гипермаркетов, пенками-лежаками, шезлонгами. Стояли капитально, казалось, сам город не отпускает, не дает уехать, вырваться из своего чрева.
Но потом что-то произошло: может, открыли где-то полосу, занятую аварией, а может, само собой рассосалось — и машины поехали легко и просто, так быстро, что уже было не разглядеть ни напряженных лиц, ни шезлонгов, ни музыки не расслышать. Проехала «газель», возможно, такая же, как та, в которой Коля оторвал себе голову. И что-то переключилось в голове, и лето открыло себя — и я зашагал, бодрый, под зловещий виадук. Коля, прости. Лето победило.