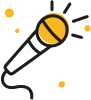
«В Петербурге можно всё» — серия встреч с известными людьми для студентов и выпускников СПбГУ, организованная «Билайн», Ассоциацией выпускников СПбГУ и «Бумагой». Участники проекта рассказывают о том, как сумели сделать любимое дело своей профессией.
Следите за анонсами встреч, приходите и читайте расшифровки интервью на «Бумаге». Все материалы прошлого сезона, во время которого прошли встречи с Сергеем Шнуровым, Михаилом Боярским, Билли Новиком, Вячеславом Полуниным и другими, собраны здесь.
Как Елизавета Боярская скрывала съемки в кино от своего театрального мастера, почему Анну Каренину сыграть проще, чем героиню двухстраничного текста, и в чем заключается обаяние старой петербургской дачи?
«Бумага» публикует расшифровку открытого интервью актрисы Елизаветы Боярской для студентов СПбГУ во втором сезоне проекта «В Петербурге можно всё».

Игорь Антоновский: Елизавета, добрый день.
Елизавета Боярская: Добрый день, здравствуйте.
ИА: Сегодня последний день весны, завтра наступит лето.
ЕБ: Пойдет дождь и снег.
ИА: Мне кажется, это своеобразный Новый год.
ЕБ: По сути, да.
ИА: Особенно для нас, петербуржцев, лето, белые ночи — единственное время, когда в нашем городе можно жить. Как мне кажется.
ЕБ: У меня всю жизнь так: до мая всё длится очень долго. А когда он наступает, можно считать, что уже [пришел] сентябрь. Думаешь: «Подождите, мы же только что ждали эти листики и эту весну». Лето всегда очень быстро мчится. Зато нам очень повезло с маем, я считаю. Практически весь месяц я была на гастролях в Лондоне с Малым драматическим театром, но мне регулярно сообщали, что в Петербурге изумительная погода. Посмотрим, что будет летом. Мы привыкли к разному. Нам грех жаловаться.
ИА: Я, кстати, с этого и хотел начать — зная, что вы сейчас между Лондоном и Нью-Йорком, где будут следующие гастроли. Очень интересно, кто в Лондоне ходит на представления МДТ. Насколько я знаю, не только русские.
ЕБ: В основном, англичане.
ИА: Я хотел у вас спросить о разнице между лондонской и петербургской публикой. И какую публику вы ждете в Нью-Йорке — вы же не первый раз туда едете.
ЕБ: Мне кажется, глобальной разницы между петербургской и лондонской публикой нет. Мы возили «Жизнь и судьбу» Гроссмана — это сложное произведение: и спектакль сложный сам по себе, и тема сложная. Но зритель был очень отзывчивый, очень внимательный. В спектакле поднимается бесконечное множество тем: тоталитарный режим в Советском Союзе, нацизм в Германии, взаимоотношения человека и государства.
Организаторы гастролей надеялись на первый спектакль, поскольку [в Англии] очень важна система рецензий. После хороших рецензий помогает сарафанное радио, и в итоге раскупают все билеты. У нас, к счастью, так и случилось. В Англии пятизвездочная система [рецензий], и все отзывы на наш спектакль были с максимальными оценками. Очень хорошие критики написали замечательные слова, что было приятно. До конца гастролей зал был набит битком, [звучали] овации.
В Петербурге, конечно, наш театр хорошо знают и любят, и есть публика, которая ходит именно в Малый драматический театр. Я даже запомнила двух зрительниц, которые ездят в наш театр из Урала — покупают билеты на спектакли и организуют себе поездки в Петербург. Это тоже очень приятно — знать, что им хочется возвращаться именно к нам.
В Америке другая публика — ярко реагирующая. Когда мы вышли играть «Вишневый сад» два года назад в Нью-Йорке, все начали хохотать после первых трех реплик. Оказывается, забавная пьеса. Никогда бы не подумала.
ИА: Комедия. У Чехова она и значится как комедия.
ЕБ: Несколько первых вводных реплик — и мы видим живую публику, которая готова глотать, алкать эмоции, которые мы транслируем им со сцены. Они следят за переводом, очень живо реагируют на юмор. И, например, совершенно другое — японская публика. Мы возили «Коварство и любовь» (спектакль по одноименной драме Фридриха Шиллера — прим. «Бумаги»). Это, конечно, не Чехов, не Гроссман, не Абрамов — этот спектакль более графичный, более структурированный. Но там тоже много чувств, эмоций. Мы были абсолютно обескуражены, нам казалось, что мы играем в пустом зале: люди просто не дышали. Мы думали: неужели так плохо? Провал? А потом, в конце — громкие овации. Видимо, у них в культуре заложено — во время спектакля не реагировать. Может, это неприлично, может, не принято. Я не знаю.
ИА: Дисциплинированные.
ЕБ: Дисплицинированные. Это, конечно, вообще другая культура. Я раньше никогда не была на Востоке. Япония для меня осталась недовкушенной загадкой: мне очень понравились люди, культура, обычаи. Там всё особенное. Мне бы хотелось, чтобы мы туда еще вернулись.
Австралия также была в нашей жизни с театром: туда мы тоже возили Гроссмана. Мы приехали на фестиваль в Перт, там было +33, — а мы, значит, [играем на сцене] в валенках, в шубах, в арестантских робах. Они смотрели на нас с сожалением, ужасом и уважением к тому, как много [людям в России] удалось пережить: «Господи, бедные, как же вам жилось-то там, беднягам». А мы играли и думали: у них тут солнце, океан, серфинг. А они смотрели на нас: «Мда. Вот вас, ребята, угораздило-то. Какая у вас сто лет назад была движуха». Но они, конечно, и плакали, их многое задело.

Ближе всего мы по менталитету к европейцам. Если сравнивать с петербургской публикой — [нам близки] Франция, Париж.
ИА: А петербургская публика от московской отличается больше, чем петербургская от европейской?
ЕБ: Петербургский зритель, мне кажется, более строгий. Но мне это, кстати, нравится. Это задает какую-то планку.
ИА: Он строгий в суждениях?
ЕБ: В суждениях, вкусах, взглядах. Понятно, что кто-то приемлет конкретного режиссера, кто-то — нет; кто-то любит современную драму, кто-то — нет. Но петербургскому зрителю надо угодить. В Москве каждый найдет свое. И сколько в Москве театров! Не знаю, сколько их официально зарегистрировано, но очень много. Хотя когда мы ездим с Малым драматическим театром в Москву, то всегда переживаем, волнуемся — это очень ответственно. На нас смотрят так: «Ну что, петербуржцы, посмотрим, что вы нам привезли».
Я играю в Москве еще в двух театрах: в ТЮЗе — в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» по Лескову, и в Театре нации — в спектакле «Иванов», который поставил Тимофей Кулябин. И это совсем другое ощущение: я играю на московской сцене, с московскими артистами, и у меня уже нет этого экзамена перед московской публикой. Я внутри [процесса] — не как москвичка, но как часть этого театра.
ИА: А в Москве нет ощущения, что люди приходят не за содержанием, а за именами: вы, Евгений Миронов…
ЕБ: Есть. Хотя мое личное, зрительское впечатление заключается в том, что если спектакль нравится, ты перестаешь обращать внимание, известный артист или неизвестный. Известный артист может играть очень плохо, а рядом может стоять актер, которого ты не знаешь, но от него глаз не оторвать.
ИА: А если немного абстрагироваться от театра и вернуться к теме наших встреч «В Петербурге можно всё»: Петербург — это европейский город в сравнении с Лондоном, Парижем? В отношении возможностей, жизни, ощущений от пребывания здесь?
ЕБ: На мой взгляд, да. Мы много ездим, и Петербург ничем не уступает. Я уже не говорю про наше туристическое архитектурное богатство — это понятно. В иной раз идешь по улице, иностранец кого-то останавливает, спрашивает на английском языке, как пройти, — ему совершенно свободно отвечают и с удовольствием помогают. На французском, на немецком, на английском. Много появилось указателей для иностранцев.
Другое дело, что есть русский менталитет, который никуда не уйдет. Все ожидают подвоха в чем-нибудь. Что, может быть, и неплохо. Но в целом, мне кажется, город — это люди, в первую очередь. Экскурсоводы, сотрудники кафе, бариста, у которых ты берешь кофе, ребята, которые стоят в отеле на ресепшене, — из всего этого складывается впечатление, и оно, как мне кажется, позитивное. Все, с кем я разговаривала, — итальянцы, французы, американцы — остались в полном восторге: от людей, от традиций, от того, что по ночам всё работает, а не закрывается в 11 часов вечера.
ИА: А с точки зрения возможностей работы — в театре, кино, сериалах, медиаиндустрии? Вы бы посоветовали молодым людям, которые хотят построить свою карьеру, остаться в Питере, держаться за него — или нужно поехать в Москву? Как известно, у нас один город в стране: удалось ли победить это проклятие?
ЕБ: Мне кажется, мы сейчас уже настолько взаимосвязаны и мобильны… Я живу в Москве, а работаю в Петербурге. Езжу на работу на поезде. Играю спектакль, сажусь на поезд и возвращаюсь обратно. Эти города уже стали сообщающимися сосудами.
Что касается актерской профессии — да, у нас один основной театральный институт на Моховой (Российский государственный институт сценических искусств — прим. «Бумаги»). Наверное, больше перспектив в Москве. Но сейчас столько театральных организаций, курсов, институтов — государственных, частных… Контор, которые обещают за две недели сделать тебя артистом. Нужно самостоятельно выбирать свой путь и с правильными представлениями идти в профессию. Выбирать правильные места, показываться правильным мастерам — если ты серьезно хочешь заниматься этой профессией. А так, мне кажется, не принципиально — Москва, Петербург.

ИА: Много информации о вас я получил через ваш инстаграм. Там у вас под миллион подписчиков, и он полуофициальный, полуличный — как, в принципе, у многих. Если раньше люди шли в актерскую профессию за славой, популярностью, желанием высказаться, то сейчас мы видим, что необязательно быть актером, — достаточно быть участником шоу «Холостяк»: будет два миллиона подписчиков. Первый вопрос: много ли времени отнимает у вас инстаграм?
ЕБ: У меня всё сложно с инстаграмом. Назовем это «не люблю». Мне кажется, это самое большое зло, которое придумало наше время. Я понимаю, что там можно заработать деньги, почерпнуть много информации, но это такая зараза. В свое время я была в большей степени зависима от фейсбука, но в какой-то момент его удалила, потому что поняла, что он занимает у меня невозможное количество времени.
ИА: Вы были зависимы от публицистики?
ЕБ: Да, я была подписана на интересных людей — ученых, журналистов, — мне были интересны их рассуждения. Но в какой-то момент я поняла, что сама не мыслю, не развиваюсь, когда вмещаю это [в себя]. А уж инстаграм, мне кажется, это вообще какая-то фикция — бесконечное листание фотографий, лайки. Но люди ведь действительно от этого зависимы: у кого сколько подписчиков, у кого сколько лайков. «Ты мне написал плохой комментарий. Ах ты такой-сякой. Отписываюсь!» Целая система взаимоотношений.
Как человек в большей степени консервативный, я — за живое общение, за то, чтобы как можно меньше находиться в интернет-пространстве. У меня есть инстаграм, но сказать, что он активный, будет враньем. Многие хотят, чтобы он был активнее, и всё время меня к этому подталкивают, но каждый пост я вымучиваю — если только не хочу поделиться какой-то радостью. Для работы, для артиста сейчас это практически обязательная часть. Даже для многих благотворительных организаций. Если ты представитель благотворительной организации и у тебя нет инстаграма, тебе могут просто не поверить. Если ты чем-то занимаешься, пожалуйста, рассказывай про это.
Многие артисты завели инстаграм только для того, чтобы вести некую отчетность перед зрителями. Когда надо, я делаю какие-то посты. Естественно, не отслеживаю комментарии. Но я была бы счастлива, если бы мода на это прошла. Мне кажется, должно это когда-то надоесть — пребывание внутри сети, общение внутри сети, информация, которая проходит сквозь мозг и не оставляет никакого следа, кроме [ощущения] мишуры, полного диссонанса.
Я не умею пользоваться гаджетами, у меня нет ноутбука. У меня есть бумажный ежедневник, есть ручка, есть интернет для поиска информации. Я заказываю себе книги на Ozon: люблю всё бумажное.
Сейчас в нашем мышлении цепочка связей стала короткой. Для того чтобы что-то вспомнить, надо найти эту информацию в Google. Раньше, чтобы вспомнить какую-то дату, ты выстраивал связь: так, значит, это было в этом году, то было в том… Тогда уже был тот царь, а тогда уже отменили крепостное право… У тебя происходила какая-то работа в мозгу. А сейчас даже не клиповое сознание, а листательное. Первый пост про то, что кто-то ушел из жизни, и ты скорбишь…
ИА: А потом воскрес.
ЕБ: Да, как вчера (речь об инсценированной смерти журналиста Аркадия Бабченко — прим. «Бумаги»). А потом кто-то выложил милую шутку, и ты сидишь смеешься. Абсолютный диссонанс — внутренний и интеллектуальный. Я омерзительный приверженец прошлого, но мне так спокойнее, и я себе в этом смысле доверяю. Когда я своей головой думаю, своим сердцем чувствую — я так честнее.
ИА: А вы относитесь к этому как к какому-то социальному лифту? Как мы знаем, Ирина Горбачева благодаря инстаграму снялась в фильме «Аритмия».
ЕБ: Ну это талант. То, что по-настоящему здорово и талантливо, заслуживает и уважения, и внимания. Ирина — прекрасная актриса, с огромным чувством юмора, очень серьезный и глубокий человек. Это не что-то яркое, но бессодержательное. Нет. За этим огромный талант, бэкграунд, театр Фоменко. Всё это просвечивает сквозь то, что она делает. Поэтому она так обаятельна и действительно талантлива.
Недавно я скачала себе приложение Arzamas и слушаю их лекции. Мне это нравится намного больше. Могу слушать в машине, в самолете, в поезде. И это дает пищу для ума. В иной раз почерпнешь интересную информацию — и для себя, и для работы. Происходит какое-то духовное развитие, а не бесконечное «промахивание» ненужной информации. Вот этот формат мне наиболее близок. Сейчас технологии так развиваются… Я закончила институт в 2007 году и поняла, что у меня не осталось оттуда ни одной фотографии, потому что еще не было смартфона. Это было десять лет назад.
ИА: Не жалко, что не осталось?
ЕБ: Да бог с ним. У меня есть несколько бумажных фотокарточек — и достаточно. Десять лет назад ни у кого еще не было смартфонов, а сейчас у каждого курса свой блог. Но надеюсь, что это похоже на моду на фастфуд: все всё-таки пришли к ЗОЖу. Надеюсь, будет так же модно быть интеллектуально развитым человеком.

ИА: А в театре у вас такая же консервативная позиция? МДТ — классический театр. Там очень много новаторства, но не в форме. А каково ваше отношение к современному театру и применению технологий, интерактиву, что часто происходит в «Гоголь-центре»?
ЕБ: Театр, мне кажется, это как раз та платформа, которая должна развиваться в ногу со временем. Главное, чтобы не терялась суть. Чтобы это было про человека, отражало время, нашу эпоху, наши проблемы. Прекрасно, талантливо, а где-то — изумительно делаются дела в «Гоголь-центре». Малый драматический театр, на самом деле, тоже в этом плане не отстает. Он просто более, скажем так, классический по восприятию. Допустим, спектакль «Страх, любовь, отчаяние» — наша премьера по Брехту. Или «Враг народа». Это спектакли вопиюще современные. Да и Гроссман — ужасно, но он опять стал современным. Иной раз читаешь и думаешь: «Как? Это же было написано про тогда и про то». А на самом деле нет.
Я стараюсь смотреть постановки разных [современных] режиссеров. Мне чуть сложнее с новой драмой именно в плане драматургии, потому что я, может быть, до этого еще не доросла. Мне не всегда легко это воспринимать. Но, допустим, классические произведения в интерпретации современных режиссеров в новой форме для меня всегда очень любопытны. Поэтому я только за. Если художник выражает свои мысли самым подходящим и доступным для этого способом, никто не должен это цензурировать.
ИА: А если говорить про кино: у вас сейчас есть какие-то проекты?
ЕБ: Нет.
ИА: Это ваша принципиальная позиция?
ЕБ: Ну да.
ИА: В отличие от многих артистов, вы меньше снимаетесь в сериалах и в полнометражных фильмах.
ЕБ: Я просто больше люблю театр, скажем так. Там я чувствую себя спокойнее, увереннее. И, может быть, мне там легче. Для меня театр — более осознанный подход к ремеслу и к профессии. Есть произведение, есть время, есть репетиции. Есть глубокое погружение. Нужно обойти роль с разных сторон, отыскать новые смыслы. Совсем по-разному отыграть одну сцену много раз. То есть долго-долго работать над будущим произведением. А в кино — быстро встретились, вот тебе текст, отрепетировали, сняли — всё, разошлись. Не могу сказать, что я подтормаживаю и не успеваю. Я всегда работаю в том ритме, который задает съемочная группа, режиссер. Но это намного тяжелее, потому что для меня это намного более противоестественный процесс. Я выкладываюсь, стараюсь работать максимально сосредоточенно, качественно. Но это намного сложнее — без повторов и права на ошибку. Нет такого: сегодня я сыграла так, а в следующий раз сыграю вот так, попробую проверить это — как в театре. В кино сыграл один раз — и всё снято.
ИА: Нет большей зависимости от режиссера?
ЕБ: Да, только хотела сказать, что в кино далеко не всё зависит от артистов. И вы прекрасно знаете такие случаи, когда актерский состав изумительный, а кино, к сожалению, неудачное. И наоборот: фильм никто никогда не видел, рейтинг — ноль, а смотришь — и не оторваться, потому что кино очень простое и человеческое.
А театр — это более гармоничный для меня процесс. Конечно, мне безумно повезло, что я работаю у Льва Абрамовича (Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра Европы — прим. «Бумаги»). Наверное, есть более удачные спектакли, есть менее удачные. Но, тем не менее, это какой-то вдумчивый, правильный, серьезный, гармоничный процесс. Я к этому привыкла, как привыкают ко всему хорошему.
Если такие условия есть на съемочной площадке, что большая редкость, это, конечно, роскошь. «Анну Каренину» снимал Карен Георгиевич Шахназаров: «Мосфильм» — это его владения. И мы, конечно, никуда не торопились, снимали по одной сцене в день, делали несколько дублей. Классический, идеальный процесс на съемочной площадке. А бывают другие: «Так, у нас есть два часа, мы должны снять восемь сцен. Ребята, соберитесь!»
ИА: Это в сериалах.
ЕБ: Обычно в сериалах, да. Каждый раз ты веришь, что будет по-другому. Слава богу, у нас в кино работает очень много хороших людей, и все энтузиасты. В Америке — профсоюзы, можешь сказать: «Ребята, у меня переработка — час. Я с этого стула не встану никогда». Профсоюзы у всех: у осветителей, у гримеров.
ИА: У водителей.
ЕБ: У водителей. У меня последняя смена на картине длилась 21 час. Вместо 12. Мне говорили: «Лиза, мы всё понимаем. Можете еще часок?» А что я скажу? Я понимаю, что больше съемочного дня нет. Если я скажу «нет», они решат: «Такая капризная, не может работать». Оператор не мог снимать мой крупный план, снимал меня сбоку, потому что у меня от усталости глаза стали разные: один большой, другой маленький. Говорю: «Ребята, я больше не могу. Я сейчас умру у вас тут на площадке». И как назло — самые сложные сцены.
Помню, в какой-то момент я ругалась со своим «молодым человеком»: красование, эмоции. Нужно было быть на высокой эмоциональной точке. И я разрыдалась. Было полтретьего, а мы снимали до семи. С семи утра до семи утра. У меня тряслись ноги, колени. И я разрыдалась просто от обиды. Мне стало так себя жалко. Думаю: господи, ну что за черт возьми! При этом, почувствовав, что рыдаю, не забываю про актерскую природу, говорю: «Давайте снимать скорее!» Мне говорят: «О, а сейчас хорошо!» Сняли. Потом: «Ну что, переезд на другую точку?» Сцена в ресторане, новый макияж. Меня в полчетвертого перегримировывали в грим-вагоне. Поэтому, знаете, в театре мне как-то спокойнее.

ИА: Неужели в театре не бывает репетиций по 12 часов?
ЕБ: Бывают, конечно. У нас вообще очень любят репетировать. Но там как-то всё логичнее и спокойнее. Какая-то стабильность мне милее. Конечно, когда приходят интересные роли в кино, я соглашаюсь. Но уже не так оголтело.
ИА: Тем не менее, сейчас, можно сказать, расцвет отечественного кино и сериалов, снимают очень много. В том числе ваш друг и коллега Данила Козловский как режиссер поставил фильм «Тренер». Вы поддержали его?
ЕБ: Да, конечно. Я ходила в кинотеатр в городе Красноярск. Мне действительно понравился фильм.
ИА: Вам он там не предлагал роль?
ЕБ: Нет. Мне бы там особо и места не нашлось. Но я знаю, что Даня очень давно вынашивал эту идею, он мне рассказывал про нее чуть ли не после института. Я очень рада, что он к этому пришел — и он пришел бы к этому в любом случае. Даня настолько активный, яркий, фонтанирующий, брызжущий энергией, талантом, харизмой человек, которого может хватить на всё. И за что он ни берется, делает это до конца и всегда по высшему качеству. С огромной серьезностью и никогда не ради какого-то эпатажа или чего-то еще. Он человек с невероятным вкусом. Понятно, что мы учились на актерском у Льва Абрамовича, но тем не менее. Бок о бок мы прошли уже больше десяти лет. Пятнадцать лет. Мне кажется, что он на режиссерском поприще пойдет очень далеко и очень успешно. И дай бог, потому что таких энергетически заряженных и талантливых, организованных, ответственных людей не так много — [редко бывает] чтобы в одном человеке так всё сошлось.
ИА: Много, кстати, дебютов актеров как режиссеров. Например, Константин Хабенский снял фильм. У вас режиссерских амбиций нет?
ЕБ: Нет. Единственное, в последнее время у меня возникла потребность учиться. Естественно, резко отходить от профессии мне бы не хотелось, но я бы пошла на сценарный или режиссерский факультет. Для себя. Мне хочется какого-то апгрейда именно в плане теории. Я уже очень много знаю про профессию с разных сторон, и мне бы хотелось повысить какую-то внутреннюю планку — именно знаний. Это можно делать заочно, в конце концов. Так что такая внутренняя потребность у меня есть. Но не уверена, что практическая.
ИА: Теперь я вот о чем бы хотел поговорить. Мы всё-таки находимся в стенах экономического факультета. И так получилось, что вы представитель не только петербургской династии, но и петербургского бренда. Бренд «семья Боярских», бренд театра МДТ. Какова ответственность за фамилию, за бренд? Какие там подводные камни?
ЕБ: Я, к счастью, себя брендом не ощущаю, поэтому у меня, наверное, проблемы с этим нет. Так просто сложилось, что папа — петербуржец и остался в Петербурге, не уехал в Москву. У нас есть петербургские артисты — например, Иван Иванович Краско, — которые здесь отучились, стали успешными и остаются здесь жить. Но их не так много. Папа, например, благодаря своим ролям в «Трех мушкетерах» и многих других фильмах стал большой творческой единицей в советском кинематографе в свое время.
К детям [знаменитостей] всегда очень предвзятое отношение. Я полагаю, что с этим все сталкиваются — и не только в актерской профессии. Если, скажем, в семье хирургов подрастает маленький хирург, все сразу скажут: «О, смотрите, у нас тут новенький. Папенькин сыночек». А куда еще идти ребенку, у которого мама — патологоанатом, а папа — хирург? Не в библиотекари же ему идти. Понятно, что дома говорится об одном. Поэтому профессиональные династии — это вполне естественно. Но актеры всегда на виду — поэтому их можно пообсуждать. Мироновы, Янковские, Ефремовы, Боярские всегда так или иначе сталкивались с такой историей. Мне очень повезло, что я [работаю] в Петербурге: здесь с этим попроще.
Когда я поступала, было сложновато. Проводился огромный конкурс на поступление к Додину: несколько сотен человек на место. И все говорили: «Смотрите-ка, она поступает. Не поступит. Ха-ха-ха». Я абсолютно искренне не понимала этого. Я была обескуражена. К счастью, это было такое непростое поступление, что не было времени на это отвлекаться. Когда я стала учиться на курсе, индивидуальности были стерты: все в черном, все с зализанными волосами, бледные несчастные студенты театральной академии. Кто ты — не имеет никакого значения. Тем более, мне кажется, в актерской среде это очень легко выявить. Тут не спишешь экзамен. Когда на тебя смотрят — это либо «да», либо «нет». Тут не обманешь, всё налицо.
Нас завернули в бараний рог с погружением в роман Гроссмана: мы пять лет репетировали «Жизнь и судьбу». Фамилия, не фамилия — у меня были свои проблемы. Когда я стала сниматься, меня немного коробило [звание] «дочки», но потом и это всё кануло в Лету: наверное, потому что я перестала об этом думать. Я в большей степени занималась профессией: она постоянно чего-то требовала. А сейчас это предмет гордости: я понимаю, что я двенадцатая актриса в семье. У нас артисты театра Комиссаржевской, Александринского театра. Серьезная театральная история.

ИА: Был какой-то момент, когда вы поняли, что родители вами гордятся?
ЕБ: К счастью, мои родители, как поступают, наверное, все правильные люди, не очень щедры на комплименты, но когда они говорят несколько важных, серьезных слов, этого мне более чем хватает. Несколько раз люди, которых я уважаю, — Олег Басилашвили или Лия Ахеджакова — после спектаклей говорили важные слова. Немного, но те, которые запоминаешь на всю жизнь — и чувствуешь себя увереннее, что ты всё-таки не зря занимаешься этой профессией. Так и родители — они находят какие-то важные лаконичные слова. А если [я сыграла] плохо — они скажут правду.
Они могут сказать, что им понравилась моя роль, но не понравился спектакль. Или наоборот: спектакль замечательный, но я что-то не продумала, не прочувствовала, надо докрутить. Дают какие-то подсказки. При этом понимая, что у нас всё-таки очень разные школы. Школа Владимирова и школа Додина — две разные планеты (Михаил Боярский и Лариса Луппиан были учениками режиссера театра и кино Игоря Владимирова — прим. «Бумаги»). Но, тем не менее, они с большим пиететом, конечно, относятся к Малому драматическому театру и Льву Абрамовичу. И к тому, что я там делаю. Для них каждый спектакль, любая премьера — это событие. Что касается фильмов, где я участвую, — то же самое. Причем [находят отклик] самые неожиданные. То, что мне казалось более серьезным, может восприниматься спокойно. А то, что мне казалось более преходящим, может [вызвать сильную реакцию]. Например, папа очень любит фильм «Статус: Свободен». Говорит: «Такое хорошее кино».
ИА: Кино действительно интересное.
ЕБ: Неожиданно, что у людей этого поколения такой фильм о молодежных любовных взаимоотношениях может вот так отозваться.
ИА: Не могу не спросить: я знаю, что вы и Данила Козловский были первыми артистами МДТ, которых Лев Абрамович выпустил в медийное плавание. От него вы получаете какие-то отзывы?
ЕБ: Поначалу он сложно нас отпускал, но отпускал. И, конечно, вначале мы много снимались по ночам, чтобы никто ничего не узнал. Надо было изворачиваться. Но потом он стал отпускать. Конечно, у нас железные договоренности с театром. Допустим, мы знали, что у нас в таком-то году будет «Гамлет». И никто из нас на этот период ничего не берет. Хоть ты тресни. А так пожалуйста — снимайся. Гастроли, репертуар — театр всегда на первом месте.
Что касается оценок, я не думаю, что Лев Абрамович всё смотрит, у него на это нет времени нет. Он всегда поздравляет, с искренней добротой к нам относится. Думаю, ему приятно, что его птенцы чего-то смогли достичь. По поводу той же «Анны Карениной» мне Лев Абрамович сказал приятные слова. То же самое касается Валерия Николаевича Галендеева, нашего с Даней педагога по речи и режиссера театра, профессора. Замечательный человек и легендарная личность. Для нас очень важно мнение наших мастеров и педагогов. Мы всегда к нему прислушиваемся. Я уж не говорю о том, что когда я готовилась к пробам «Анны Карениной», пришла к Валерию Николаевичу и сказала: «Давайте вместе готовиться». Чтобы я была точно уверена, что я на правильном пути.
ИА: Возвращаясь к семье. Вы сейчас живете в Москве: отец никогда это не комментировал? Не говорил: «Боярские должны жить в Петербурге»? Вы не чувствовали себя пленницей города, в котором жило 12 актеров [семьи] и где вы должны встретить старость?
ЕБ: Может, и встречу. Поработаю, дети вырастут… Внутренне Петербург остается для меня домом. Но сейчас у меня ребенок пойдет в московскую школу. Три дня в Петербурге, три дня в Москве — так проходит моя неделя. У меня супруг работает во МХАТе и в «Табакерке». А я рядом. Но я состою из Петербурга, я из него соткана. Я понимаю, что Москва, может быть, более гостеприимная, люди там простые, открытые. Но мне больше нравится, когда люди более закрытые и не всегда с первого взгляда тебя принимают. Мне нравится всё в характере Петербурга. Мне нравится, что он непростой. Мне нравится, что люди более сложные, не такие однозначные. Мне нравится чувствовать себя частью этого города. Хотя в Москве я прекрасно прижилась — нельзя сказать, что я чувствую себя там инородным телом. Но по характеру и атмосфере мне Петербург ближе — во всех смыслах.

ИА: А у вас есть яркие воспоминания из детства, как вы с папой гуляли по Петербургу?
ЕБ: Попробуй с папой погулять. Вы представляете [себе это]? В 1980-е. Как я гуляю с папой, не помню. Я гуляю, впереди идет папа, вокруг него толпа людей. Конечно, он меня куда-то водил, но туда, где было поменьше народу.
С Петербургом у меня многое связано: мы всю жизнь живем в одной квартире на Мойке. Всё детство там прошло. Единственное, чем отличается жизнь детей тогда и сейчас, — ребенок много гулял. Я помню, мы проводили бесконечное количество времени во дворах-колодцах, играли в «казаков-разбойников», классики, городки.
ИА: В центре города это возможно?
ЕБ: Ну, там же есть три метра травы. И горка какая-нибудь. В 1992-м году у нас появилась дача. Мне иногда кажется, что люди не верят и им кажется, что это какой-то прикол. Допустим, спрашивают: «Какая у вашего отца машина?» — «Opel». — «Да?» — «Да». Существует стереотип, что артисты — особенно известные — это некие небожители, которые спят в лепестках роз, надевают позолоченные тапочки, умываются росой. И когда мы сидим на даче втроем за столом, я говорю: «Видели бы сейчас люди, как мы с вами сидим». На дачу свозится вся старая одежда: жалко выбрасывать, а на даче [в ней] ходить нормально. И ты понимаешь, что у тебя всё разного размера, разных цветов, какие-то кепки дурацкие. Идешь в лес в резиновых сапогах: в одном кармане семечки, в другом — кулек [для шелухи]. Идешь грызешь семечки, потому что это круто. То, как мы выглядим, как наша дача выглядит, как папа выглядит…
ИА: Без шляпы.
ЕБ: Без шляпы. В дачном тренировочном костюме. Дачу мы так и не перестроили, к счастью. Она осталась деревянным домом, в котором зимой нет горячей воды, нет стеклопакетов. Нас несколько раз пытались ограбить: открывали дверь и ничего не забирали — нечего. У нас был только тяжелейший телевизор Sony: его украли, и через два месяца мы нашли его в лесу.
ИА: Не донесли.
ЕБ: Видимо, подумали: да ну его нафиг. Мы его поставили обратно, и он работал.
Это обаяние старой петербургской дачи — простой, деревянной, холодной, с прогнившими досками. Но в этом столько уюта, столько истории; столько наша семья там пережила. Наш дачный поселок называется «Культура», и там живут балетмейстеры, хореографы, дирижеры, музыканты. И у всех такие же дачи. И дорогу никогда не починят. И то, какие мы там — настоящие, какими нас никто не мог бы представить, — и есть обычная актерская семья.
Когда приходят родительские друзья, это не ресторан на последнем этаже какой-нибудь гостиницы, а вареная картошечка, водочка из холодильника, соленые огурцы, которые мама замариновала. Это откуда-то оттуда — из молодости родителей. Ростропович и Вишневская рассказывали, как отмечали свадьбу. Они встретили на улице друга, взяли пузырек водки и кулек селедки и пошли праздновать свадьбу таким образом. И в этом есть невероятное обаяние, которое, мне кажется, с Петербургом в большей степени связано. Мне бы хотелось, чтобы это обаяние как можно дольше не терялось.
У меня недавно была встреча с друзьями, я позвала их в ресторанчик рядом с театром. Пришел мой друг из Москвы, журналист. А у нас принято петь песни под гитару. Мы сели, пьем вино, начинаем петь песни «Кино», «Сплина», Шевчука — всё подряд. Он смотрит и говорит: «Господи, мне казалось, такого просто не бывает». Это обаяние живого общения никогда не заменишь листанием в телефоне. У меня этого в жизни, к счастью, много. И благодаря театру, и благодаря нашей семье, и благодаря нашим традициям. Мне бы не хотелось это менять.

ИА: А сейчас это возможно для молодых артистов или это было связано с Советским Союзом, 1990-ми? Сейчас, мне кажется, первое, что делают селебрити, — выстраивают дачи и теряют контакт с реальностью.
ЕБ: Я понимаю, но это зависит от ценностей. Все мои друзья любят подобные посиделки, компании, разговоры. Мы все знаем песни Высоцкого. Кто-то может сидеть и читать вслух Цветаеву или Пастернака. Обсуждаем кино. В Москве всё немножко по-другому. Артисты моложе, как ни странно. Они уже где-то там.
ИА: На голливудских холмах.
ЕБ: Если человек идет в актерскую карьеру за славой, можно сразу сказать, что ничего не получится. А если идет за ремеслом — чтобы превратиться в этого бледного студента в черной одежде, пять лет сидеть взаперти и посвятить себя профессии — наверное, толк какой-то выйдет.
ИА: Может быть, плюс этой эпохи в том, что она как раз отфильтрует актеров: те, кто пойдет в профессию за славой, отправятся в инстаграм, а те, кто интересуется ремеслом, пойдет в театральную академию.
ЕБ: И первые будут зарабатывать много денег, а вторые — есть корки хлеба.
ИА: Есть ли у кого-то вопросы? Послушаем публику.
Женщина из зала: Вы говорили, что играете один и тот же спектакль по-разному. Как к этому относится режиссер?
ЕБ: Я не то чтобы меняю что-то глобально — скажем, мизансцену. Саму режиссуру мы просто не имеем права менять. Более того, у нас очень жесткая дисциплина в театре, что мне безумно нравится. Например, если мы неправильно скажем текст, у нас могут снять зарплату за это. Мне кажется, это прекрасно. В иной раз такой отсебятины наслушаешься. Вольности нам не позволяют.
Я имею в виду, что можно проверить, изменить какие-то внутренние связи. Лев Абрамович очень любит такие вещи. Спектакль должен расти и развиваться. Когда выпустили «Три сестры», я была не замужем, у меня не было ребенка. Но вместе с событиями в твоей жизни ты меняешься, и слова, которые ты произносишь на сцене в сотый раз, вдруг обрастают новыми смыслами. Очень интересно смотреть, как развивается спектакль. Это самое интересное. Когда мы репетируем перед гастролями, Лев Абрамович старается давать новые смыслы, знаки: играть каждый раз одно и то же было бы невыносимо. А поиски нового дают рост.
Девушка из зала: Спасибо вам за ваше творчество. Расскажите о ваших театральных предпочтениях: что нравится, на что есть возможность ходить.
ЕБ: Возможности ходить нет почти вообще. Но, так или иначе, я очень благодарный зритель — и поэтому с удовольствием смотрю спектакли самых разных режиссеров. И мне практически всё нравится. Я смотрела спектакли Богомолова, Бутусова, Могучего, Серебренникова, Фоменко. И всегда что-то находило [у меня] отклик. Если говорить о более молодых режиссерах, смотрела что-то из новой драмы: Диму Волкострелова, Семена Александровского. Новая драма, новые взгляды — мне всё это интересно.
Для меня худшее — это когда есть только форма. Если нет содержания, — я не чувствую, не переживаю и не думаю, для меня это пусто. Такие спектакли тоже встречаются. Но это уже, как говорится, на совести режиссера — когда всё ради эпатажа, ради формы. Но, например, очень эпатажный спектакль «Машина Мюллера» в «Гоголь-центре» мне безумно понравился. Эта откровенная визуальная форма на меня настолько сильно воздействовала эмоционально, спектакль настолько интеллектуально нагружен, что мне нужно еще раз пять на него сходить, чтобы вникнуть в эти сложные, подробные, интереснейшие тексты.
Если спектакль заставляет меня думать и переживать, это уже многое значит. Форма — это уже прерогатива режиссера. Я могу смотреть суперклассический спектакль с классическими костюмами и декорациями — и чувствовать, что это имеет отношение и ко мне, и к сегодняшнему дню. «Боже, написано сто лет назад, а ничего не меняется». Важно, чтобы было соприкосновение с сегодняшним временем.

Мужчина из зала: Вы уже определились с «Братьями Карамазовыми»?
ЕБ: Знаете, как раз к премьере, которая грозит [состояться] в апреле 2019 года, мы определимся. Не раньше — точно. Таков процесс в нашем театре. Творческий котел: все всё пробуют. Мы исследуем глубину [произведения]. Там столько сложных, глубоких, бездонных мыслей. Дай бог, выпустим в апреле, но постигать это мы будем еще десятилетиями.
ИА: Мы знаем театральную легенду про Юрия Яковлева, который, играя Мышкина, чуть с ума не сошел. «Карамазовы» — еще более сложная история. Вы вообще видите солнце, лето?
ЕБ: Нет, конечно. Во-первых, Лев Абрамович очень любит репетировать летом. Во-вторых, он очень любит кондиционер. У нас всегда в репзале где-то +16 градусов. Приходим с улицы в босоножках, потом надеваем шубы, угги, шарфы, садимся и рождаем спектакль. Все произведения — одно другого не легче, но «Карамазовы» — особая история. Так сложно мне лично не было еще никогда.
ИА: Есть какое-то лекарство от этого проникновения Достоевского в голову? Мне кажется, для петербуржцев это вообще важно — лекарство от Достоевского.
ЕБ: По идее, ты должен всё время об этом думать. Но иногда нужно просто эти мысли вытряхнуть, поставить на просушку и обратно [в голову] вставить. Очень тяжелые темы, слишком высокие материи — и религиозные, и нравственные, и духовные. И когда приходишь на репетицию «Братьев и сестер» Абрамова — так хорошо. Всё так понятно, про людей. Играй, что чувствуешь, что у тебя болит и нарывает.
Ну, будем прорываться. Но это непросто, очень непросто. Это первый Достоевский в моей жизни, и я никогда не думала, что это будет так тяжело. Интересно, но очень тяжело.
Девушка из зала: Елизавета, а вы любите футбол?
ЕБ: Вы снимаете? Да, конечно.
Девушка из зала: «Зенит» или «Тосно»?
ЕБ: Или кто?
ИА: Вопрос с подвохом просто. Ваш отец был недавно замечен болеющим за «Тосно».
ЕБ: «Зенит». Я правильно сказала, да?
Девушка из зала: Все так увлечены чемпионатом по футболу и говорят только о нем. А вы будете болеть? Какие матчи посетите?
ЕБ: Пока планы такие: эвакуироваться на дачу. На матчи я точно не пойду. Полагаю, что в городе будет затрудненная обстановка.
ИА: Да, будет.
ЕБ: И я так понимаю, что у меня еще будет несколько спектаклей в Москве, и нужно будет добраться до туда. Поэтому я надеюсь, что чемпионат не нарушит мои личные планы. Передвигаться буду пешком — и радоваться издалека победам футболистов.

Девушка из зала: Хочется сказать вам спасибо за вашу работу в фильме «Адмирал». Хочется видеть вас больше на телеэкране. Вопрос про ценности: назовите три ваши основные ценности. И что бы вы пожелали выпускникам, которые только сейчас начинают свою взрослую жизнь?
ЕБ: Всегда волнительно, когда перед тобой чистый лист, который надо потихоньку заполнять. Во-первых, нужно не бояться пробовать и ошибаться. И не пытаться, не пройдя все ступеньки, залезть на самую высокую. Многие артисты начинают с монтировщиков, а потом становятся директорами театров — или хорошими актерами и режиссерами. Мне кажется, в любой сфере нужно не бояться делать простую или грязную работу: начинать с маленького. Потому что всё это — бесценный опыт. На мой взгляд, главное — уметь трудиться. Надо любить трудиться в любой профессии. Быть хорошей домработницей очень сложно и найти такую нелегко. Убирать тоже надо уметь: делать это хорошо и любить то, что ты делаешь. Если ты хорошая домработница, к тебе выстроится очередь. Все будут понимать, что перед ними идеальный человек, который умеет содержать дом в полной чистоте, потому что это его призвание.
Неважно, работаешь ты директором театра или водителем — будь самым аккуратным, самым пунктуальным. В любой профессии нужно стараться быть лучше самого себя. И поэтому, даже когда ты начинаешь с курьерской службы, нужно сделать что-то такое, чтобы доверяли только тебе — потому что ты лучший в этом самом простом деле. Куда бы ты ни двигался, никогда не давать себе расслабляться и делать что-то спустя рукава. Бывает, в хороший ресторан не зайти, потому что качество портится. Все очень быстро взлетают, но удержаться на этой высоте сложно. Это можно сделать, если ты пообещаешь себе ни в чем никогда не халтурить. Характер, требовательность к себе и колоссальная ответственность перед другими и самим собой — наверное, самое главное.
Девушка из зала: Насколько тяжело вживаться в роль? И как спектакли, которые вы играете, влияют на вашу повседневную жизнь?
ЕБ: Чем сложнее и подробнее процесс погружения в роль, тем мне легче. Приходишь на пробы, тебе дают две страницы текста героини Маши. Текста мало. Я его выучила. Но про что он? Кто эта Маша? Кем она работает? Кто ее родители? Как она провела детство? И вроде бы две страницы — это очень просто. Но на самом деле это очень сложно. А есть Анна Каренина и роман Льва Толстого. И мне так хорошо: у меня столько информации. У меня есть лекции нашего замечательного педагога из театральной академии Юрия Николаева Чирова: он изумительно читал все лекции, но я очень хорошо помню лекцию про Анну Каренину. Я могу почитать в интернете, что по этому поводу говорил Набоков. Я могу посмотреть передачи, где роман обсуждают разные режиссеры и критики. Я могу почитать дневники Льва Николаевича. Но главное — у меня есть книга, где всё написано. И надо просто это сыграть. Воспроизвести так, как я это понимаю. И это огромное подспорье. Поэтому сыграть Машу бывает намного сложнее: приходится самой нагромождать какие-то внутренние обстоятельства, придумывать, если тебе их никто не дает.
Работа над «Анной Карениной» стала самой гармоничной работой в моей жизни: у меня было много времени на подготовку. Я завела ролевую тетрадь, куда выписывала сцены из сценария и ремарки из романа, которые показывали все ее повороты. Нужно было практически наизусть знать весь роман. Конечно, эта роль — эмоционально сложная. Под конец было тяжеловато, роль отняла много сил. Но это было очень интересно. Я хорошо понимала, как я хочу сыграть и про что я хочу рассказать историю. Бывает так, что от отсутствия содержания ты зря тратишь эмоции и силы на роль. А бывает, сыграешь сложный спектакль, но понимаешь, что это было хорошо. Всё случилось, все повороты провернулись, вся партитура исполнена — плюс обнаружилось еще что-то новое. Это приносит огромное удовлетворение.

Влияет ли это на жизнь? На мою нет. Я слышала много всяких историй, что артисты превращались в маньяков, их семьи страдали: «Ты стал не такой, прекрати, вернись назад». У меня такого нет — у меня слишком много забот в жизни: я мама, жена, мне нужно хлеб купить, за квартиру заплатить, из химчистки одежду забрать. Я выхожу [со сцены], снимаю костюмчик — и только вы меня и видели.
Зато был такой забавный случай. Максим (Максим Матвеев — муж Елизаветы Боярской, актер театра и кино — прим. «Бумаги») играет в «Табакерке» спектакль «Кинастон». Очень популярный сейчас в Москве спектакль. На него все ходят, потому что он классный, модный. И ходят во многом из-за Максима, потому что он выстроил блистательную роль. Кинастон — это реальный человек, игравший женские роли в шекспировском театре. И как раз на его век пришлась перемена, когда женщин пустили на сцену. И вот Максим у меня на глазах в течение трех месяцев становился женщиной. В какой-то момент я думала, что его задушу: «Хватит, почему я живу с еще одной женщиной дома?» А Максим — прекрасный артист, очень въедливый. Когда мы сошлись на одной площадке «Анны Карениной», это было такое упоение двух придурочных любителей крупинок. Сидели по ночам, всё это разбирали и сочиняли. Два сумасшедших. Нам было безумно комфортно друг с другом. Максим очень тщательно, подробно сочинял роль Кинастона. Плюс он похудел, приводил себя в определенную форму, очень долго работал с педагогом по пластике.
Когда я увидела сам спектакль, поняла, для чего всё это было: я была в шоке. Абсолютное совершенство на сцене — действительно женщина. Мужчина, но женщина. У меня отвалилась челюсть, как в мультике, я не могла поверить, что такое вообще возможно — так филигранно выстроить роль. Была очень смешная ситуация: он однажды ко мне подошел, взял меня за руки, смотрел мне долго в глаза. Я думаю: как приятно. А то бегаем оба, иногда не хватает таких моментов. Я говорю: «Что, Максим?» — «Смотрю, как у тебя глаза накрашены». Утром приходит готовить завтрак — грациозная женщина. Ну и семья. Извращенцы какие-то. Зато хорошо, что я артистка — я это понимаю. Другая женщина, наверное, вряд ли бы смирилась.
ИА: Большое спасибо, великолепная беседа. Отдельное спасибо за то, что описали свою дачу — я почувствовал запах этой дачи. Захотелось уехать срочно на электричке. Вам точно надо учиться на сценариста и на режиссера после этого рассказа.
ЕБ: Большое спасибо. Надеюсь, у вас у всех всё будет хорошо, и вы пойдете по правильной дороге — с чувством ответственности и любви к своему делу. Всем удачи.










